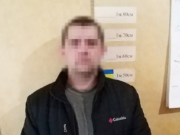Оторванный ломоть
Лида совсем рано ушла из родительского дома. Самостоятельно жить начала. Уже с шестнадцати годков – для семьи, словно оторванный ломоть. Сперва она в педагогическом техникуме училась. Потом по комсомольской путевке в дальнем гуцульском селе на границе со Словакией русскую словесность преподавала. Через год замуж вышла за военного. Укатила с ним на Крайний Север, в секретный авиационный гарнизон, что за полярным кругом располагался. А в шестидесятом, после хрущевского сокращения армии, когда муж демобилизовался и на меткомбинат устроился, с дочкой в Запорожье приехала.
Так что многое мимо нее в родительском доме прошло. Не заметила, как сестричка младшенькая родилась, как отца начальником большим на шахте назначили. Не удивительно – своя ведь жизнь у нее. И не Кравченко она уже – Ковригина. Валентина Григорьевича, мужа своего, законная жена.
Те, що вже всi забули про Снiжне
А ведь тогда, в далеком сорок первом, Лида Кравченко только-только первый класс закончила.
…В начальной снежнянской «четырехлетке», что при шахте 33-бис находилась, занятия вели исключительно на украинском. Поселок ведь сичевая казацкая старшина основала. Еще в екатерининские времена. Вот и разговаривали жители, как деды и прадеды. И как мама научила. А она, известное дело, – казацкого родуплемени была. Сохранили себя и позже, когда в округе уголек копать стали. Хоть в забое и неважно, как говоришь, важно, чтоб плечо было надежное и рука сильная.
Даже когда после гражданской, в голод и коллективизацию хлынул народ в поселок не только с Украины, но и из глубинных русских губерний, пришлые легко заговорили на украинском. Да что там – заговорили!? Песни запели! И деток своих в школу с радостью отдавали. Так это – пришлые, а семье Кравченко сам Бог велел – снежняне потомственные, коренные. Разве что дед Потап жену, Ксению, взял из Смелы, что под Черкассами. Так и у той разве что ляхской крови намешано. Характер соответственный – гоноровитый. Все, пся крев, по ней быть должно!
Шестого мая сорок первого по поводу завершения учебы Лида со всем классом и с учительницей Ириной Михайловной сфотографировалась. На память. А в конце июня отцу повестка из военкомата пришла. Мать, конечно, в слезы. Куда ж она сама с детьми!? Ладно, Лида почти взрослая. А Нельке-то – и двух нет. И Руслану, братику, три месяца.
Только нельзя отцу не идти было. Хотя шахтерам бронь давали. Он ведь коммунистом был.
И родня отцова все партийные. И дед Потап – конюх в транспортном хозяйстве, и брат родной, Артем Потапыч, тоже.
От Иловайска до Смелы
Сразу отца на фронт не отправили. Сперва формирование и учеба для мобилизованных новобранцев полагались. Под Иловайском, в лесу, бывших шахтеров военному делу обучали. Лида с мамой туда к отцу съездить успели. Гостинцы отвезти. Отец встретил чудной, на себя непохожий: волосы стрижены коротко, сам в гимнастерке и в ботинках с обмотками. Научили его там чему или нет – неведомо. Долгой учебы не вышло: немцы фронт прорвали. Вот новобранцев закрывать прорыв и бросили. Уже через неделю в «теплушки» погрузили и на передовую. Только не все до нее добрались. Эшелон по дороге «юнкерсы» разбомбили. Вагоны – в щепки. А людей – в клочья. Чуть ли не треть народа избили. Тут же у насыпи в братской могиле их и схоронили. Отца тогда контузило крепко, но выжил. До осени воевал. Даже два письма с фронта получили.
В октябре под Харьковом разбили немцы его часть. Кого убили, а кто в плен попал. Отец среди вторых оказался. Немцы пленных в Лозовую согнали. Первое время там даже ограды серьезной не было. И стерегли не так, чтобы очень. Так что, кто в рабстве гнить не хотел и духом окончательно не пал, пытался убежать. Многим удавалось. И отец тоже побежал – ему-то, партийному, поблажки от немца ждать не приходилось.
Убежать убежал, а до фронта добраться не смог, уж больно далеко немцы продвинулись. Домой в Снежное пришел. Только жену с детьми обнял, а уже снова бежать надо. Предупредили добрые люди, мол, ждите с минуты на минуту гостей. Полицаев. Из местных. Бывших работников шахты. Тех, что новую власть с радостью приняли.
Эти-то не могли не прийти. За отловленного красноармейца или коммуниста беглого от немцев ведь и награда, и дополнительный паек полагались. Хлеб, крупа, жиры и табак. Так что уходить пришлось. И семью уводить – не пожалели бы. Ни жену, ни детей.
Собрали мама с бабушкой наспех носильные вещи в узелки, чуток побольше – для взрослых, поменьше – для детей, еду, что нашли, в дорогу и ушли в ночь. А дом бросили. Даже ключ в двери оставили.
В Смелу отправились, где родичи бабы Ксении проживали.
О сладкой военной жизни
Что могла сказать Лида о пребывании в Смеле? Под немцем жизнь была не сахар. Хотя отец как раз на сахарный завод и устроился. Только ни сахар тот, ни патоку в доме не видели. Хоть чуток возьмешь – повесят. И не посмотрят, что мальцы дома с голоду пухнут.
У немцев на этот случай виселица посреди города стояла. Редко пустовала. Сгонят народ на площадь и вешают прилюдно. А на грудь повешенному табличку: «Саботажник и партизан». Даже если вся вина – пригоршня сахара в кармане. Сахар ведь украден у Великого Рейха! В былые годы за колоски с колхозного поля и то мягче наказывали! Так что голодала семья Кравченко. Со временем все носильное с себя на еду поменяли. Мать по селам окрестным ходила, вещи на продукты меняла. Только чаще без толку. Сперва полицай в селе лучшее себе отберет, потом кордоны на дорогах, уже немцы, – тоже ограбят, не побрезгуют. А однажды уже в городе, на рынке, когда мама розетку сельского маслица на хлеб сменять задумала, все начисто отобрали. Ни хлеба, ни масла. И еще прикладом замахнулись. Зря только ботинки стоптала. И пальто отцовское драповое отдала.
Заниматься детьми было особо некому: отец на заводе, мать еду ищет, а бабушка совсем старенькая – не углядеть ей за тремя непоседами. Так что росли как придорожная трава. Война – одним словом. Не до жалости и сантиментов. Когда у Лиды зуб разболелся, одна через весь город к доктору пошла. Мыслимое ли дело сегодня – ребенка самого отпустить? А тогда… Доктор долго зуб испорченный тянула. Кусок вытащила, а корень остался. Сказала завтра еще прийти. Только как до завтра боль терпеть? Перекись надо для полоскания или «марганцовка». Или солевой раствор. Или сала кусочек приложить. Только где же взять? Дома на полке верхней в шкафчике бутылка стояла, Лида решила зуб прополоскать. А в бутылке кислота соляная. Едва жива осталась. Сожгла себе все во рту начисто. Хорошо, хоть не глотнула. Месяц не то, что есть, воду с трудом по капельке пила.
Как немцы отступать стали, жителей из города с собой погнали, чтобы от авиации советской прикрываться. Самолеты со звездами прямо над головами пролетали, из пулеметов били, бомбы сбрасывали. Иной раз замечали гражданских, а порой – расстреливали всех без разбора. В таком случае выход один – падай в кювет и молись, чтобы ни пуля, ни осколок не задели. Так и спаслись – скатились в овраг и убитыми притворились. А когда колонна ушла, назад пошли, навстречу фронту. Видать, Бог надоумил. Тех, кто не убежал и не погиб по дороге, немцы под Винницей из пулеметов расстреляли.
Когда до фронта добрались, отца сразу же мобилизовали. Тех, кто на оккупированной территории оставался, командиры не больно жаловали и в бой без жалости бросали. Хотя, если правду сказать, и иных не больно-то жалели.
Отец с войны орден Славы третьей степени привез и медаль «За отвагу». А из трофеев – фонарик плоский двухцветный с орлом и свастикой и иголок для шитья десяток. Про то, как воевал, говорил неохотно. Даже когда праздник. Водку выпьет и молчит. И слезы по щекам текут.
 А как вернулись в Снежное, про деда Потапа и брата отца Артема узнали.
А как вернулись в Снежное, про деда Потапа и брата отца Артема узнали.
Артем перед войной начальником шахты в Красном Луче был. Это от Снежного за пятьдесят километров. Ночью из окошек видать, когда огни над терриконами горят. Он семью, жену с тремя детьми на эвакуацию отправил, а сам остался шахту из строя выводить. Чтобы немцам не досталась. Вывести-то вывел. А сам уйти не успел. Немцы его в шурф и бросили, когда узнали, что все оборудование из строя выведено. Погиб, получается, как герой.
А дед Потап при эвакуации от голода помер. Пайки известно, какие были. Он, конечно, при лошадях был все время. А им ведь не только сено и овес положены были. Мог бы как-то выкрутиться. Только сам умирал, а у лошадок даже горсть брать стыдился. Они же, лошадки ему вверенные, тварь бессловесная. Сами себя не защитят. Что ж станет, коли каждый у них возьмет? И сам не брал и другим не давал. Пока живой был. А потом…
Так и похоронили чужие люди, неизвестно где.
Итоги
Сегодня, считает Лида, из их фамилии, почитай, никого и на свете нет. Они с сестрой мужа фамилиям продолжение дали. Кончился род. Разве лишь она одна осталась. Надолго ли теперь? Вот и сестра Неля прошлой зимой померла…
Пролетела жизнь. В суете, в радости и печали. В прошедшем январе восемь с половиной десятков годков стукнуло. Давление скачет. Сердечко шалит. А уставать никак нельзя. Учительница – профессия уважаемая. Но все это в прошлом. Уже ни школы, ни учеников, которые на дом приходили. А заботы остались. Пенсия копеечная, вот и тащит она навьюченная сумками, дачные гостинцы правнукам. Мальчику – виноград и малинку, а малышке – румяные яблочки.
Дача далеко. Без машины просто беда. А с тех пор как не стало мужа Валентина, старенький «Москвич» ржавеет в гараже. Внучкин муж не по этой части. Ему и на дачу-то выбраться проблема. А как бы хорошо для деток. И воздух свежий. И речка. Ягодки прямо с куста. Смородинка. Малина. И помидорчики с огурчиками свои, не покупные. Пропадет ведь хозяйство, коли за ним не ухаживать. А где силыто взять. Ведь из последних сил корячится. Может, и вправду, как внучка советует, засеять все травкой? И пропади оно все пропадом. Только ведь жалко. Столько сил вложено. Поднимали с Валентином хозяйство с нуля. По кирпичику, по камешку. Лишнего-то никогда не было. И на «Запорожстали», и потом, как снова служить стал. Даром до подполковника дослужился, который год как на Святониколаевском. Уже и памятник поставили. Из черного гранита. И себе Лида место рядышком приготовила. Чтоб потом родственники не суетились. Хотя, если честно говорить, совсем она туда и не торопится. И правильно!..
Ведь до сих пор, если закрыть глаза, все та восьмилетняя девчонка из далекого сорок первого года. И все члены семьи Кравченко еще живы. Стоят рядышком и улыбаются. И бабушка, и мама, и отец, и брат Руслан, и сестричка. И даже дед Потап с дядькой Артемом. И она бежит к ним, чтобы обнять. Бежит и никак не может добежать…
Борис Артемов